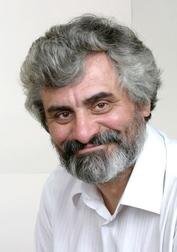|
В советские времена даже само упоминание о чьей-то «философской школе» вызывало подозрение в политической неблагонадежности. У всех была одна «школа» – универсальный марксизм-ленинизм. И все же после оттепели 60-70-х гг., если не в официальной печати, то на научных конференциях о школах стали говорить все чаще. В их числе «школа Уёмова» упоминалась обязательно.
И в самом деле, десятки лет еженедельно собирался системный семинар, который посещали студенты, аспиранты и уже имеющие своих аспирантов ученики А. И. Уёмова. В научной печати можно найти труды учеников Уёмова по дальнейшему развитию системного подхода. В их числе работы по анализу различных специфически системных характеристик (параметров) и системных закономерностей, статьи по аналогии и ЯТО. Большое количество публикаций посвящено применению системного подхода не только в самой философии, но и в самых различных областях знания – в логике, лингвистике, политологии, физике, юриспруденции, культурологии, истории, математике, химии, информатике и других. Конечно, не все ученики восприняли идеи своего учителя, но восприняли творческий настрой учителя и пошли своими путями, но разве бывает иначе?

Снимок 2003 г. А.И.Уемов с учениками и коллегами. Слева направо на переднем плане: С.А.Уемов, А.И.Уемов, Л.Н.Терентьева, О.В.Николенко, Г.А.Поликарпов, Л.Н.Сумарокова. На заднем плане: А.С.Кравчик, А.Р.Могиленко, А.Ю.Цофнас, Л.Л.Леоненко, Н.В.Бородина, М.С.Оганесян, Н.П.Савусин, А.В.Чайковский.
Наш сайт задуман, в том числе, и как электронная библиотека. Поэтому, чтобы извлечь максимальную пользу из ресурсов сайта, используйте его поисковые механизмы. Допустим, вы интересуетесь проблемой целостности. Для этого:
1) Воспользуйтесь поисковой формой в верхнем левом секторе нашего сайта. По выражению "целостн" вы получите около 4 десятков результатов. Не все они будут релевантны. Тем не менее, вы найдете ряд публикаций, в которых упоминается этот термин.
2) Обратитесь к разделу Персоналии. Так, в списке работ А.И.Уемова термин "целостность" употребляется не один раз. Для поиска заданных слов на странице вашего браузера нажмите сочетание клавиш Ctrl+F. Таким образом вы найдете, например, работу "Использование языка тернарного описания для определения меры целостности систем". Работы из этого списка, доступные для ознакомления, подсвечены как гиперссылки.
3) Учтите, что поисковый робот сайта не проводит поиск в тексте документов, помещенных в раздел Библиотека. Для поиска документов в этом разделе вам нужно принять во внимание область знаний, к которой относится ваш поисковый запрос. В частности, целостность является системным параметром. Поэтому вы можете скачать документы из раздела библиотеки, посвященного теории систем и провести полнотекстовый поиск уже внутри этих документов.
Присоединяйтесь к нашей группе Вконтакте!
|